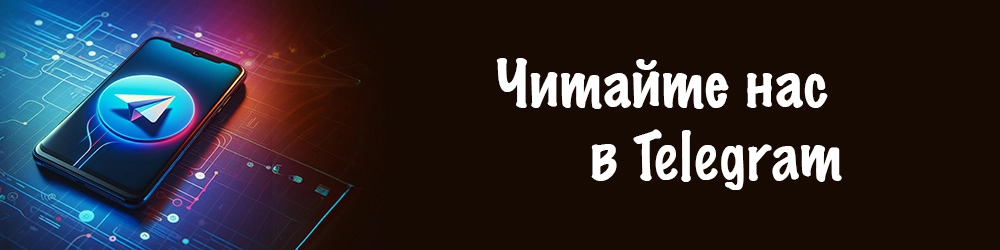Борис Бабаян: «Уникальные российские компьютерные разработки используются повсюду»
Автор
Александр Семенов
Борис Бабаян: «Уникальные российские компьютерные разработки используются повсюду»
Борис Арташесович Бабаян (р. 1933) - советский и российский ученый, педагог, член-корреспондент АН СССР (1984), разработчик вычислительной техники; член-корреспондент Российской АН (1991). Автор трудов по архитектурным принципам построения вычислительных комплексов, компьютерного программного обеспечения. Лауреат Государственной (1974) и Ленинской (1987) премий. Первый европейский ученый, удостоенный звания Intel Fellow.
Википедия
В декабре прошлого года Борис Бабаян отпраздновал свое 75-летие. Наш корреспондент встретился с юбиляром и предложил поговорить на «компьютерные темы». Предлагаем читателям запись этой беседы.
Борис Арташесович, прежде всего разрешите поздравить вас с юбилеем и пожелать долгих лет плодотворного творчества, здоровья и удачи!
Спасибо большое, хотя мне думается, что в моем случае уже не понятно, что правильнее: поздравлять или соболезновать столь почтенному возрасту. Правда, Дэн Сяопин, по-моему, в столь же почтенных летах приступил к реформированию китайской экономики.
Давайте начнем разговор с того, как вы пришли в компанию Intel.
С вашего позволения, я начну с более раннего периода моей жизни, чтобы была понятна подоплека того шага, о котором вы говорите. Итак, в 1951 году я поступил в Московский физико-технический институт и в 1957-м окончил его. Практически всю свою жизнь с 1956 по 1996-й - я работал в Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ), в том числе возглавлял подразделение аппаратного и программного обеспечения. Мне посчастливилось со студенческих лет работать под руководством академика Сергея Алексеевича Лебедева, основоположника российского компьютеростроения. Кстати, когда я поступал на физтех, и словосочетания такого - «вычислительная техника» - в обиходе еще не было, моя специальность называлась «машинная математика». Много позднее, в 1996 году, я участвовал в создании базовой кафедры «Вычислительные технологии» на ФРТК МФТИ, которую и возглавляю по сей день. Сейчас это кафедра микропроцессорных технологий с базой в ЗАО «Интел А/О».
Пожалуйста, назовите тему одной из научных работ студента Бабаяна?
В МФТИ мне удалось сделать хорошую работу на тему организации двоичных вычислений, результаты которой были доложены на институтской конференции в 1955 году. Она была посвящена методу двоичного умножения, деления, извлечения квадратного корня из числа, сегодня известному как carry-save - это один из двух методов, до сей поры широко применяемых при вычислениях. Поступив на работу в ИТМиВТ, я участвовал в разработке многих вычислительных машин. Одной из первых была ламповая машина «М-40», которая участвовала в первых противоракетных испытаниях, кстати сказать, успешных. И в последующие годы мы создали много ЭВМ для противоракетной обороны. В ИТМиВТ было тогда много государственных заказов и обеспечивалось хорошее финансирование. Надо сказать, что в тех ЭВМ, которые мы тогда делали, было очень много уникальных технологических решений, опережавших западные аналоги. Взять хотя бы упомянутую уже быструю арифметику (carry-save) - ведь она, повторяю, до сих пор широко используется как основа всех арифметических устройств. Уже в 50-е годы мы создали машину, которая продолжала работать даже в случае сбоев. Что очень важно, поскольку оборудование было не очень надежным. В течение года у нее было, по-моему, всего восемь отказов.
Но, наверное, самый главный результат вашей работы в те годы можно назвать ЭВМ «Эльбрус»?
Я считаю «Эльбрус» самым ярким достижением тех лет. Первый из «Эльбрусов» появился в 1978 году. В этом процессоре был реализован новый подход к организации исполнения команд центральным процессором - более одной команды за такт (суперскалярная архитектура). В 80-е годы появился первый отечественный многопроцессорный суперкомпьютер «Эльбрус-2», а в 90-е началось создание архитектуры с «широким командным словом» («Эльбрус-3»). Кстати, первый западный «суперскаляр» появился только в 1995 году. К уникальным российским разработкам того времени я бы отнес и технологию «двоичной компиляции». Суть ее в том, что она делает уникальную архитектуру «Эльбрусов» совместимой с другими архитектурами, что жизненно важно для любой ЭВМ. На мой взгляд, в мире сейчас назрел своеобразный кризис в области архитектуры. Есть много эффективных параллельных алгоритмов и очень мощных параллельных компьютеров, но нет схем для эффективного использования возможностей этого оборудования. Единственный пример - «Эльбрус-3» со встроенной возможностью одновременного исполнения 20 операций за один машинный такт.
Вернемся в 90-й год – как вам работалось в то тяжелое время?
Когда мы сделали «Эльбрус-3» и начали его отлаживать, ситуация в стране резко ухудшилась. События 90-х полностью перечеркнули нашу работу. Прежде всего прекратилось финансирование - и это в тот момент, когда наш уже изготовленный, но не до конца отлаженный «Эльбрус-3» был в два раза мощнее самой производительной американской ЭВМ Cray! С открытием границ в Россию пошли более дешевые западные компьютеры, и наше детище оказалось неконкурентоспособным для российского потребителя.
Какое-то время мы продолжали работать в ИТМиВТ, сотрудничая с ведущими западными компьютерными вендорами, такими как НР и Sun Microsystems, но постепенно становилось понятно, что перспектив работы в России практически нет, и прежде всего в силу отсутствия производственной базы для создания электронной техники. Мы пытались найти инвесторов для наших работ, но разработки компьютерной архитектуры – слишком рискованный бизнес и инвесторы в них средства не вкладывают. И в 2004 году я с целым коллективом коллег перешел на работу в Intel, чтобы продолжить свои разработки. Сейчас работаю директором по архитектуре подразделения Software and Solutions Group, а также научным советником научно-исследовательского центра Intel в Москве. Продолжаю заниматься тем, чему отдал большую часть жизни, развитием и совершенствованием компьютерных архитектур, разработкой инновационных технологий и т. п.
Если я вас правильно понял, назрела потребность в своеобразной революции в архитектуре компьютеров, которая необходима для эффективного использования вычислительных возможностей современных процессоров?
Да, это именно так. И фундамент для такой революции уже есть - это архитектура «Эльбрус», которую мы предложили 20 лет назад. Естественно, ее надо улучшать и улучшать, поскольку с тех пор компьютеростроение ушло далеко вперед. Сложность перехода от последовательных к параллельным вычислениям сегодня состоит в том, что полвека доминировали последовательные вычисления, а они ведь не только в системах команд процессора, но и в языках программирования. Сегодня надо переходить от последовательного к параллельному мышлению на всех уровнях. Это очень сложно, но здесь заложены колоссальные перспективы роста мощности вычислений.
Борис Арташесович, а как вы относитесь к целому спектру альтернатив традиционным кремниевым процессорам – квантовым компьютерам, биокомпьютерам и т. п.?
Вы знаете, может быть из-за своего почтенного возраста, но здесь я консерватор: если все это и реализуется, то в отдаленном будущем. Разговоры об альтернативе кремнию я слышу на протяжении всей своей жизни. Прекрасно помню, как много лет назад Сергей Алексеевич Лебедев со своими ведущими экспертами буквально несколько дней подряд обсуждал возможность создания процессора с использованием лазеров - по инициативе наших «лазеростроителей». И что же? Пришли к выводу, что не получается. И сейчас я не вижу потребности в этом. Свет может использоваться для передачи информации на большие расстояния, но не для логических операций в процессоре. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, что я в этом вопросе не являюсь экспертом и высказываю свое личное мнение.
В прошлом году ваш родной институт - ИТМиВТ отмечал юбилей. На специальной конференции было немало интересных докладов. Как вы считаете, есть ли перспективы возрождения российской компьютерной отрасли, создания отечественных процессоров?
Здесь я оптимист, но перспективы, о которых вы говорите, связываю с общим развитием российской экономики. Квалификация российских специалистов очень высока, но должна быть реальная потребность в их труде и творчестве. Если бы удалось построить в России фабрику по выпуску процессоров, то вокруг нее, как вокруг центра кристаллизации, пошел бы процесс исследований и разработок. Но постройка фабрики дело непростое и дорогое, здесь необходимо участие правительственных органов или привлечение зарубежных фирм. Российская экономика должна потребовать создания российских чипов, потом должно быть создано собственное производство, а на его основе очень быстро возродятся и собственные разработки.
И в России по-прежнему есть по-настоящему талантливые программисты и разработчики?
Без всякого сомнения. Вместе со мной работает много молодых ребят, физтех и факультет ВМК МГУ выпускает очень талантливых специалистов. Я много лет читал лекции, всегда занимался подготовкой молодежи с большим удовольствием и с уверенностью говорю: талантами Россия не оскудела и уровень образования остается высоким.
Что вам больше всего нравится в Intel?
Прежде всего то, что это лидер индустрии. Мне всегда нравилось быть первым в своих разработках, и Intel, на мой взгляд, придерживается той же стратегии, поэтому для меня сейчас просто нет другого места, где я мог бы с удовольствием работать.
Борис Арташесович, огромное спасибо за интересные ответы, и еще раз крепкого вам здоровья!
Опубликовано 03.02.2009